Дорогие братья и сестры!
Беженцы из различных регионов, в том числе из пострадавших районов Курской и Белгородской областей, обращаются за помощью с просьбой предоставить необходимые для жизни вещи.
На данный момент требуются:
подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, крупы, сахар, мука, детское питание, шампуни, гели для душа, мыло, стиральный порошок, детские подгузники, зубная паста, одеяла, подушки, постельное белье.
Вещи должны быть НОВЫЕ, в упаковке.
Прием гуманитарной помощи осуществляется по адресу:
г. СПб, Кадетская линия 27 А.
График работы: понедельник — суббота с 11:00 до 17:00.
Беженцы из различных регионов, в том числе из пострадавших районов Курской и Белгородской областей, обращаются за помощью с просьбой предоставить необходимые для жизни вещи.
На данный момент требуются:
подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, крупы, сахар, мука, детское питание, шампуни, гели для душа, мыло, стиральный порошок, детские подгузники, зубная паста, одеяла, подушки, постельное белье.
Вещи должны быть НОВЫЕ, в упаковке.
Прием гуманитарной помощи осуществляется по адресу:
г. СПб, Кадетская линия 27 А.
График работы: понедельник — суббота с 11:00 до 17:00.
По всем вопросам обращаться по телефону:
+7 812 328-25 72 +7 911 712 11 00
Сделать пожертвование можно также через QR
+7 812 328-25 72 +7 911 712 11 00
Сделать пожертвование можно также через QR
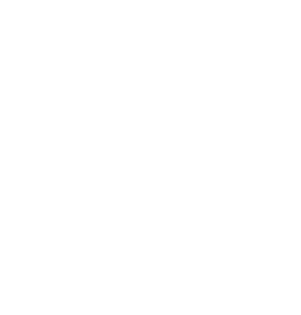
Церковь Святой Великомученицы Екатерины
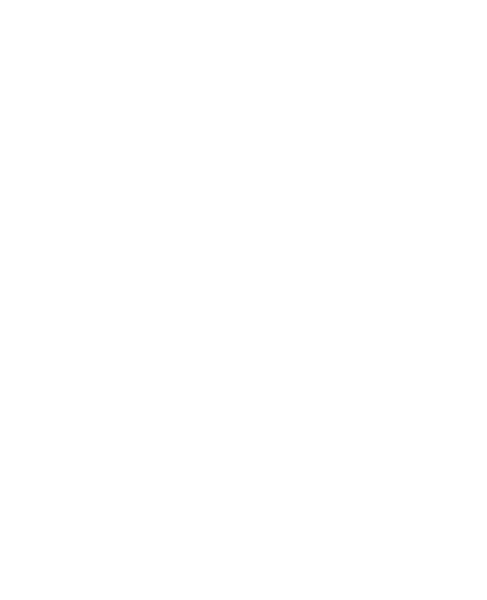
Недостойна я, преславный Владыка, увидеть Царствие Твое, но сподоби меня быть хотя с рабами Твоими. (с)
Колокола
24 мая 2025 года, после Литургии в 11:30, будет совершен чин освящения, после которого планируется подъем на колокольню нашего храма Благовеста – самого большого колокола из линейки колоколов.
Ранее колокола были доставлены в нашу обитель и установлены на временной звоннице в церковном дворе, чтобы верующие и гости смогли вблизи увидеть творения колокольных дел мастеров.
Линейка из 11 колоколов была отлита на колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже. Наименьший колокол весит 10 кг, а самый большой — 7 тонн.
Ранее колокола были доставлены в нашу обитель и установлены на временной звоннице в церковном дворе, чтобы верующие и гости смогли вблизи увидеть творения колокольных дел мастеров.
Линейка из 11 колоколов была отлита на колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже. Наименьший колокол весит 10 кг, а самый большой — 7 тонн.
Мы в храм приходим, чтобы успокоить душу
И потому, что память нам дана
Прощенья попросить у Бога
и чтоб мог Он нас послушать,
Простить, уж если есть наша вина.
Нам надо чаще ставить пред иконой свечи,
Молитву про себя тихонько повторять,
Воспоминания тогда и остаются вечны
О людях тех, кого успели потерять...
А за того, кто дорог нам и с нами рядом
О здравии должны мы попросить
У всех святых с печальным взглядом,
Чтобы потом в душе тепло их глаз носить
По жизни легче жить, если во что-то верить,
Что кто-то рядом, помогает нам
А мы -- мы можем все Ему доверить,
А Он указывает нам дорогу в тот далекий Храм!
А.Л. Бернардуччи
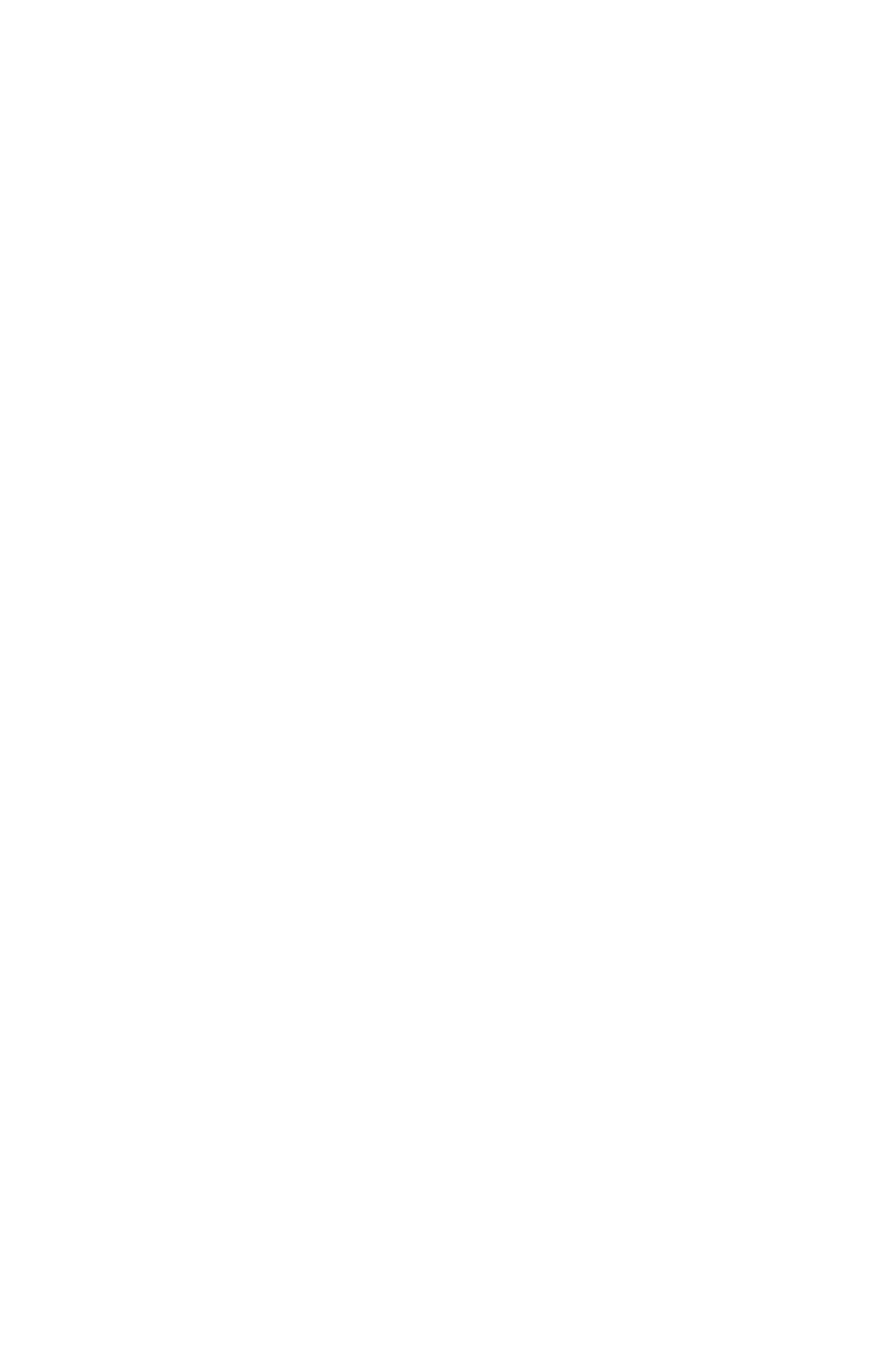
КОНЦЕРТ МУЖСКОГО СОСНОВСКОГО ХОРА
15 января 2025 года, в храме Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии, состоялся концерт мужского Сосновского хора с Рождественской программой:
1. С нами Бог. Композитор Ф.Степанов (1867-1941)
2. А в Иерусалиме, рано зазвонили. Народная Колядка
3. Эта ночь Святая. Обр. Р. Твардовский пер. для м.х. Ю.Герасимов
4. Ангелы в небе. Композитор Кошица
5. Мегрельская Алило (рождественская грузинская песня) по записи ансамбля «Basiani»
6. Прославляй (Gaudete)
7. Що то за предиво
8. Небо и земля.
9. Stile Naht(ночь тиха, ночь свята)
10. Maria Durh 11. Величание Рождеству
12. Тропарь Рождеству
13. Во Иерусалиме…(Радуйся)
1. С нами Бог. Композитор Ф.Степанов (1867-1941)
2. А в Иерусалиме, рано зазвонили. Народная Колядка
3. Эта ночь Святая. Обр. Р. Твардовский пер. для м.х. Ю.Герасимов
4. Ангелы в небе. Композитор Кошица
5. Мегрельская Алило (рождественская грузинская песня) по записи ансамбля «Basiani»
6. Прославляй (Gaudete)
7. Що то за предиво
8. Небо и земля.
9. Stile Naht(ночь тиха, ночь свята)
10. Maria Durh 11. Величание Рождеству
12. Тропарь Рождеству
13. Во Иерусалиме…(Радуйся)
Мужской Сосновский хор под управлением иерея Илии Бельского

Видеозапись концерта также доступна к просмотру на страничке храма ВКонтакте.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (19.01.25г.)
РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА
Октябрь 2022 года. Работы по восстановлению исторической конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры храма подходят к завершению. В процессе высвобождения внутреннего пространства открывается настенная живопись площадью более 1500 кв.м
Работы выполняются ООО "Петербург Реставрация".
Работы выполняются ООО "Петербург Реставрация".
В апреле 2022 года в нашем храме начались работы по восстановлению исторической конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры храма в рамках Разрешения на проведение работ за № 01-26-566/22-0-1 от 06.04. 2022 г.
Работы выполняются ООО "Петербург Реставрация".
Работы выполняются ООО "Петербург Реставрация".
Также, весной 2022 года в нашем храме проводятся гарантийные работы по ремонту кровли основного объема.
Работы выполняются ООО "Профиль".
Работы выполняются ООО "Профиль".
30 октября 2018, при помощи подъемного крана, осуществлен второй этап подъема подколокольных балок на верхний ярус колокольни храма.
Работы выполняются ООО "СК "АРКАДА".
Работы выполняются ООО "СК "АРКАДА".
24 октября 2018, при помощи подъемного крана, осуществлен подъем подколокольных балок на колокольные ярусы храма.
Работы выполняются ООО "СК "АРКАДА".
Работы выполняются ООО "СК "АРКАДА".
2018 год, Фото фиксация хода работ по реставрации лестниц и конструкций колокольни храма, а также внутренней ее части.
Работы выполняются ООО "СК "АРКАДА".
Работы выполняются ООО "СК "АРКАДА".
ГОСТИ И СОБЫТИЯ
22 апреля 2019 года, в Великий Понедельник, Литургию Преждеосвященных Даров в нашем храме возглавил МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ и ЛАДОЖСКИЙ ВАРСОНОФИЙ
13 октября 2018 храм Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове посетили МИТРОПОЛИТ ТАМАСОССКИЙ И ОРИНИЙСКИЙ ИСАИЯ и президент ГК "ЭТАЛОН" ЗАРЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АДАМОВИЧ.
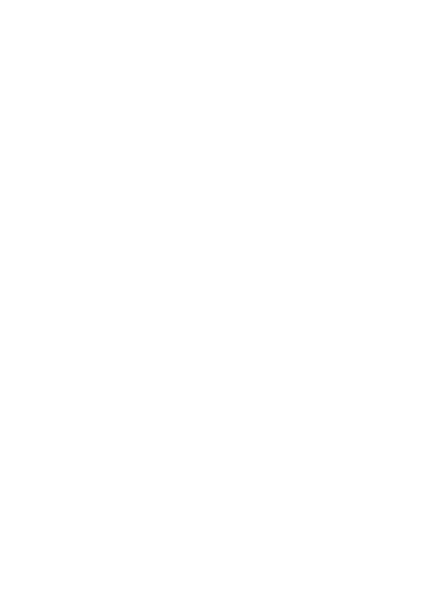
Статью о нашем храме вы можете прочитать в февральском выпуске журнала Санкт-Петербургской митрополии "Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник"
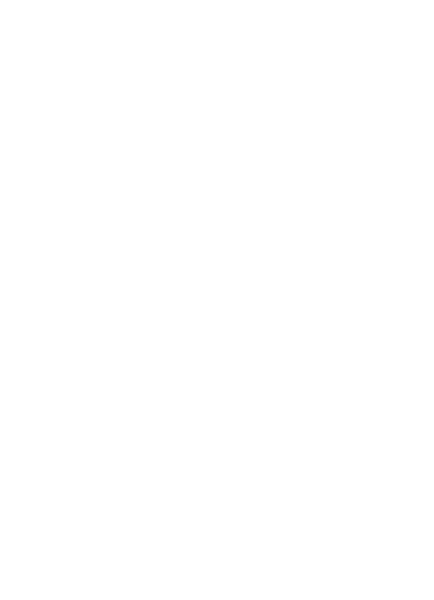
О возвращении Ангела на купол храма читайте в январском выпуске журнала Санкт-Петербургской митрополии "Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник"
30 декабря 2017 года, в канун Недели 30-й по Пятидесятнице, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение в храме великомученицы Екатерины на Васильевском острове.
Колокола
13 сентября 2017 года в церковь святой великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова прибыли 11 колоколов. Они отлиты на колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже. Наименьший колокол весит 10 кг, а самый большой — 7 тонн.
Впервые со времен Октябрьской революции в храме раздастся колокольный звон.
К сожалению, в настоящее время, установка их на колокольню храма не представляются возможной: на колокольне отреставрированы лишь фасады и кровля, реставрационные работы внутренней части не закончены: необходима полная замена колокольных балок, воссоздание металлических лестниц, реставрация стен. Поэтому пока они размещены на временной звоннице в церковном дворе.
Впервые со времен Октябрьской революции в храме раздастся колокольный звон.
К сожалению, в настоящее время, установка их на колокольню храма не представляются возможной: на колокольне отреставрированы лишь фасады и кровля, реставрационные работы внутренней части не закончены: необходима полная замена колокольных балок, воссоздание металлических лестниц, реставрация стен. Поэтому пока они размещены на временной звоннице в церковном дворе.
Подать записку
Дорогие братья и сестры!
Если по каким-то причинам Вы не можете посетить храм,
здесь можно подать записку, затеплить свечу,
заказать требу и попросить молитв о ваших родных и близких.
Мы распечатаем Ваше прошение
и помолимся о вас на ближайшем богослужении.
Спаси вас Господи!
Если по каким-то причинам Вы не можете посетить храм,
здесь можно подать записку, затеплить свечу,
заказать требу и попросить молитв о ваших родных и близких.
Мы распечатаем Ваше прошение
и помолимся о вас на ближайшем богослужении.
Спаси вас Господи!
Для того чтобы затеплить свечу или подать записку в наш храм нужно заполнить форму:
в верхней графе указать Ваше имя,
в комментариях указать имена тех, за кого Вы испрашиваете молитв и данные о пожертвовании за требу (сумма пожертвования, номер банковской карты либо номер счета в Яндекс.Деньги либо номер мобильного телефона)
в верхней графе указать Ваше имя,
в комментариях указать имена тех, за кого Вы испрашиваете молитв и данные о пожертвовании за требу (сумма пожертвования, номер банковской карты либо номер счета в Яндекс.Деньги либо номер мобильного телефона)
Вы можете помочь храму
Сделать пожертвование очень просто, это займет всего 2 минуты вашего времени.
Надежный способ внести пожертвование в онлайне
– через yamoney любым, удобным для Вас способом:
- с банковской карты
- со счета в Яндекс.Деньги
Чтобы пожертвовать выбранную вами сумму,
щелкните на баннере, расположенном ниже суммы.
Благодарим за Вашу помощь!
Надежный способ внести пожертвование в онлайне
– через yamoney любым, удобным для Вас способом:
- с банковской карты
- со счета в Яндекс.Деньги
Чтобы пожертвовать выбранную вами сумму,
щелкните на баннере, расположенном ниже суммы.
Благодарим за Вашу помощь!
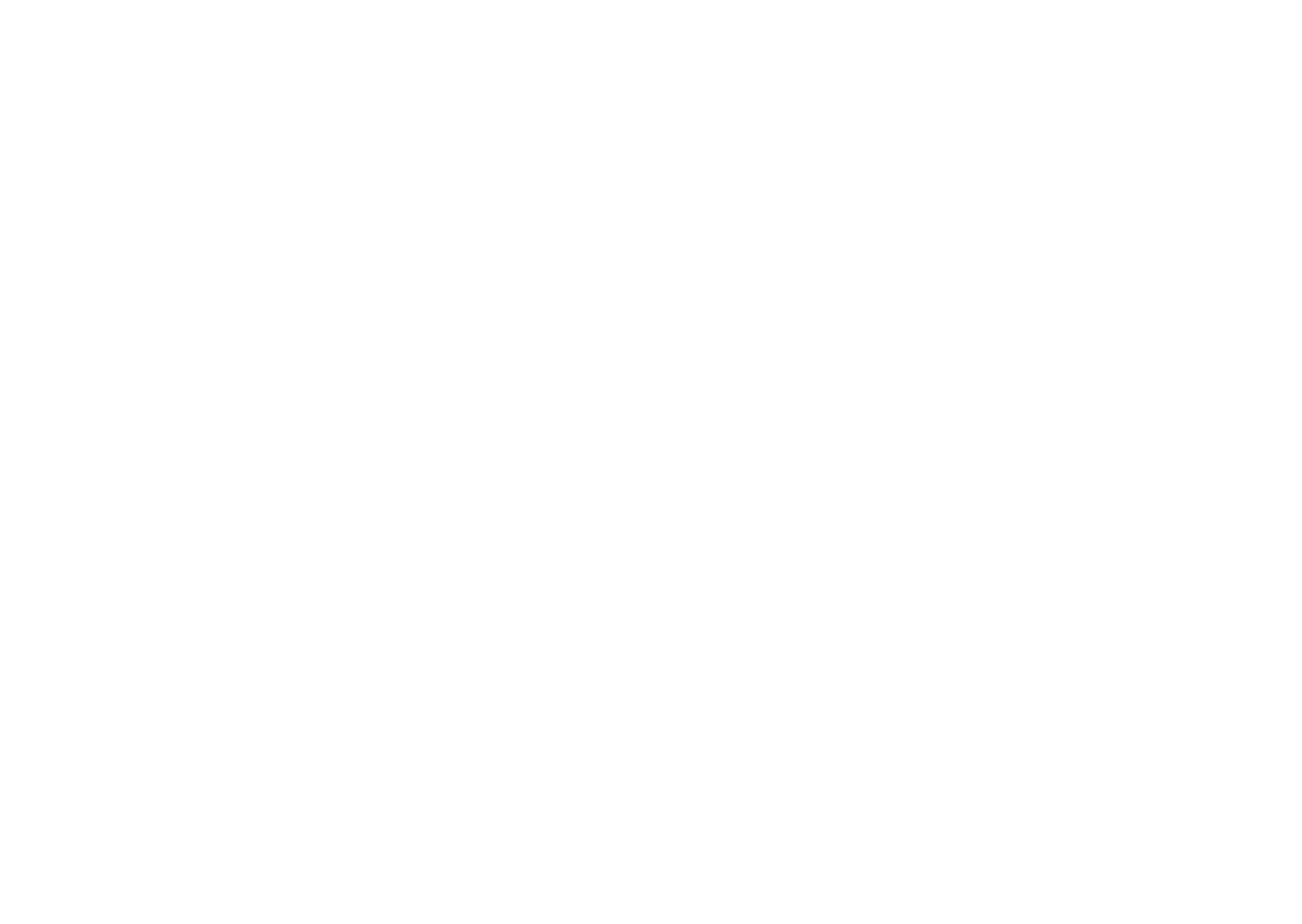
Реквизиты для перечисления пожертвований для храма:
Православная местная религиозная организация Приход храма святой великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), КД-2.
Краткое наименование: ПМРО Приход храма св. Екатерины на Кадетской линии
Адрес:199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, дом 27-а.
Банковские реквизиты:
ИНН 7825670136 КПП 780101001, БИК 044030790, ОГРН 1037858003842
р/с 40703810933000001560 в ОАО Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790
С предложениями по воссозданию иконостаса просьба обращаться
по тел.: 8(812) 908-55-58 и по e-mail: ioann-pashkevich@yandex.ru
Православная местная религиозная организация Приход храма святой великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), КД-2.
Краткое наименование: ПМРО Приход храма св. Екатерины на Кадетской линии
Адрес:199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, дом 27-а.
Банковские реквизиты:
ИНН 7825670136 КПП 780101001, БИК 044030790, ОГРН 1037858003842
р/с 40703810933000001560 в ОАО Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790
С предложениями по воссозданию иконостаса просьба обращаться
по тел.: 8(812) 908-55-58 и по e-mail: ioann-pashkevich@yandex.ru
Схиархимандрит Макарий и Церковь Св. Вмц. Екатерины на Васильевском острове.
С 1827 по 1840 год прихожанином церкви святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове был сын тульского купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Ивана Денисовича Сушкина — Михаил Иванович Сушкин, впоследствии схиархимандрит Макарий, выдающийся духовный подвижник и один из главных деятелей Русского Афона второй половины XIX века. Отец Макарий (Сушкин) с 1875 по 1889 гг. был настоятелем знаменитого Русского на Афоне Свято-Пантеилеимонова монастыря в Греции, «нашего Афона», как его называли в XIX столетии.
Семья Сушкиных — отец Иван Денисович (22.1.1786 – 19.04.1868), его супруга Феодосия Петровна и четверо сыновей Василий (25.12.1812 – 6.01.1895), Иван ( 1818 г.р.), Михаил (17.10.1820-19.6.1889) и Петр ( 1825 г.р.) — жила в Петербурге по торговым делам в 1820-1850 гг. Иван Денисович Сушкин был главой крупного торгового дома, совершавшего в год сделок, в т.ч. и заграничных, на 10 млн рублей. Кроме того, Сушкиным с конца XVIII в. принадлежала фабрика по сортировке щетины, которая «шла только к Санкт-Петербургскому порту для продажи заграничным торговцам», принося десятки тысяч рублей прибыли. Сушкины владели также воскобельным заводом, где в год выбеливалось воска на 150 тыс. рублей, чистый мед шел в Москву, а выбеленный воск — к Санкт-Петербургскому порту.
Для Михаила Ивановича Сушкина Петербург стал городом, где прошла его юность, где он получил духовное воспитание — домашнее от очень набожной матери, и церковное — в приходе церкви св. вмч. Екатерины на Васильевском острове в Петербурге.
«Квартира наша была на Васильевском острове в первой Кадетской линии, между Малым и Средним проспектами, — воспоминал о. Макарий (Сушкин). — В доме купца Голубина, в приходе церкви св. Екатерины, возле самой церкви».
Михаил Сушкин далеко не сразу принял православные семейные традиции. В своих мемуарах он честно признается, как лень было, например, просыпаться рано утром, особенно в темные петербургские зимы. «Каждое воскресенье летом к всенощному бдению мы обязаны были ходить и становиться вместе с отцом, что нам очень не нравилось. Зимою будили нас к заутрени, к которой в особенности я всегда лениво вставал, за что нередко оставался без утреннего чаю. Ранней литургии мы постоянно всегда бывали, где, по обычаю, подавались две просфоры: одна за здравие, другая за упокой и с громадным поминанием».
Но постепенно и для него богослужения стали неотъемлемой частью жизни. Вот, например, какими запомнил о. Макарий (Сушкин) дни Великого поста и Пасхи:
«Во все воскресные дни Великого поста мы ходили ко всем службам церковным <…> Нередко на второй неделе нас заставляли говеть вместе с матушкою и уже тогда мы неопустительно ходили ко всем службам. Из школы к часам ходили в церковь Благовещения, а в среду и пяток в свою приходскую церковь св. Екатерины. <…> В нашем приходе был священник Иоанн Мелиоранский, наш же туляк, которого мы уважали и любили. <…> За исповедь мы давали священнику по рублю серебром. Я обыкновенно старался исповедоваться утром, и священник не тяготился этим. Приобщались мы все у ранней литургии, причем много ставили свеч к образам и, обычно полагалось бутылка вина и пять просфор в алтарь. Мы все становились на левый клирос, где не было певцов, а только одни причастники. Это делала матушка для того, чтобы лучше выслушивать службу. По приобщении святых Таин, если была поздняя литургия, матушка оставалась, а мы уходили, чтобы застать отца, когда он не ушел по делам.
<…> Страстная седмица проводилась так: если кто-нибудь говел из нас, то должен был являться к литургии прежде освященных, а кто не говел, то довольствовался утренней, затем ходили в школу. В среду отпускались с разными наставлениями от учителя, который говел всегда на страстной седмице. Остальные дни: четверток, пятницу и субботу мы ходили ко всем службам неопустительно. Всю неделю мы кушали без масла, а в пятницу — один раз после выноса плащаницы, также и в субботу после литургии. Хотя и бывала тогда ранняя литургия в субботу, но после нее не позволялось кушать. Пришедши от литургии и, напившись чаю, мы преспокойно отправлялись с отцом в противолежащую лавку для покупки десерта. Кто был взят в эту лавку для того составляло верх блаженства, ибо можно было хоть потихоньку полакомиться. Пришедши из лавки и, напившись чаю, все погружались в глубокий сон, кроме меня. Я убегал в церковь не Деяния читать, но посмотреть, немножко помолиться и расставить свечи, которые мне поручались. Сим поручением я очень интересовался. Окончивши поручение, я приходил домой. У нас уже начинали подыматься к заутрени.
Одевшись во все новенькое, мы уходили к утрени с отцом, где, пользуясь многолюдством, мы убегали в алтарь и там, в числе самых знаменитых прихожан, рисовались впереди. Мое удовольствие было похристосоваться прежде домашних с священнослужителями и видеть всю церемонию: как начиналась утреня, как совершалось каждение и т. п. Но окончании утрени, мы оставались на раннюю литургию. Все это оканчивалось к трем часам утра. Обычно в то время в Петербурге начиналась утреня к 12 часам, что возвещалось 101 выстрелом в Петропавловской крепости, чего мы ждали с нетерпением, также, как и окончания литургии. И что за неописанный восторг был за этой утренней! Едва ли он повторялся когда-нибудь в возрасте. Это было лет до 15. Пришедши от литургии, мы христосовались со всеми и разговлялись. К этому (времени) были приготовлены и артос, и крещенская св. вода, потом антидор и просфоры и затем разговлялись. При этом давалось наставление всегда есть, как можно меньше, но мы все в конце пасхи всегда делались нездоровы.
<…> Всю Пасху мы ходили по всем службам, которые отправлялись весьма скоро. А что нас занимало, то это — крестный ход кругом церкви каждый день с артосом после литургии, а в субботу — после утрени. Тогда уже ранней литургии не бывало, но поздняя, по случаю раздачи артоса, который мы считали за непременное получить, хотя нам присылали его (т. е. на дом)».
Запомнилось о. Макарию и как в семье отмечали праздник Святой Троицы: «В день св. Троицы, так как не бывает ранних литургий, то мы спали более обыкновенного, а между тем отец посылал покупать березок, рябины, которые покупались в большом количестве для квартиры нашей, и пуки цветов, которые мы все развязывали, отбирая самые лучшие для отца и матери. К этому кто-нибудь приносил (еще) из сада. Мы связывали как себе, так и прислуге и отдавали каждому, а сами расставляли березки по комнатам. <…> Церковь на Троицу тоже убиралась разными деревцами».
В 16-летнем возрасте, как вспоминал о. Макарий, его впервые стали посещать мысли о духовном поприще. Его тяготил образ жизни отца и старших братьев — жизнь делового человека, с конфликтами с приказчиками и поставщиками, денежными счетами. Он увлекся чтением духовных книг, так как, по его собственному выражению, его «мысль более и более распространялась к духовному, озарялась неземным желанием — быть последним рабом какой-нибудь обители». Но это юношеское желание, как признавал о. Макарий, «посеялось видно на камни» и созрело до осмысленного решения спустя 12 лет.
В 1848 году Михаил Иванович Сушкин уговорил родителей отпустить его в паломническую поездку на Афон, перевернувшую его жизнь. 27 ноября 1851 года он был пострижен в схиму. 22 февраля 1853 года о. Макария рукоположили во диакона, через два года с небольшим, 3 июня 1856 года – во иеромонаха. А 20 июля 1875 года о. Макарий был торжественно избран игyменом Пантелеимонова монастыря.
Отец Макарий стал первым русским настоятелем православной обители на Святой Горе и почитается РПЦ как выдающийся духовный подвижник. Приведем слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об о. Макарии:
«Архимандрит Макарий возвел жизнь управляемой им обители на небывалый доселе уровень. Строительство нового архитектурного ансамбля и бережная реставрация древнейших церковных зданий велись одновременно с созданием крупнейшего просветительско-издательского центра. Организация многочисленных подворий и проведение широкой благотворительной деятельности послужили тому, что монастырь святого Пантелеимона стал одним из центральных по своему духовному значению среди прочих афонских монастырей. Главным достижением отца Макария стало укрепление связей Русского Афонского Пантелеимонова монастыря с Русской Православной Церковью. Духовная и благотворительная деятельность монастыря привлекала множество паломников. Поступающие щедрые пожертвования шли на созидание новых храмов и обителей, тем самым делая русский вклад в жизнь Святой Горы все более весомым».
Отец Макарий умер 19 июня 1889 года. По давней афонской традиции, через три года со дня его кончины — 18 июня 1892 года, были извлечены из земли останки старца: кости оказались чистыми и светлыми, что на Афоне принимается как свидетельство благополучного состояния души почившего в загробном мире.
Схиархимандрит Макарий причислен к лику святых для местного почитания в Тульской митрополии и входит в Собор тульских святых как праведник Макарий (Сушкин).
Связь между отцом Макарием (Сушкиным) и Петербургом сохранялась и после отъезда его из России и принятия схимы инока на Афоне — через старшего брата Василия Ивановича Сушкина. Он единственный из братьев навсегда остался в Петербурге, жил здесь с женой и сыновьями Василем и Иваном, торговал на Санкт-Петербургской Бирже. Василий Иванович Сушкин неоднократно навещал о. Макария на Афоне, делал монастырю щедрые пожертвования. Отец Макарий упоминает подаренные братом Василием предметы церковной утвари и драгоценные украшения: «Сосуд прекрасный в обители первый», «подсвечники, парча, штофная материя, газы, книги» и т. п. предметы. Из Афона в Петербург Василий Иванович тоже возвращался с подарками от брата. С 1877 по 1880 гг. В.И. Сушкин был церковным старостой церкви св. вмч. Екатерины на Васильевском острове. Он участвовал в благоукрашении храма, жертвуя переданные отцом Макарием иконы, принадлежавшие кисти иконописцев монастыря на Афонской горе. Василий Иванович Сушкин умер в 1895 году и похоронен на Смоленском православном кладбище рядом со своими сыновьями.
Литература:
1. «Игумен русских афонцев – старец Макарий. Жизнеописание и творения схиархимандрита Макария (Сушкина)» // «Русский Афон ХIХ-ХХ веков»,
Том 9, ч. 2. — Издание Русского Свято-Пантелиемонова монастыря на Афоне. 2016.
2. Леонтьев К.Н. Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря Святого Пантелеимона на горе Афонской. М. 2009.
3. Парамонова И. Отец Макарий (Сушкин): от Тулы до Святого Афона /ТЕВ, 2010, № 13.
С 1827 по 1840 год прихожанином церкви святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове был сын тульского купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Ивана Денисовича Сушкина — Михаил Иванович Сушкин, впоследствии схиархимандрит Макарий, выдающийся духовный подвижник и один из главных деятелей Русского Афона второй половины XIX века. Отец Макарий (Сушкин) с 1875 по 1889 гг. был настоятелем знаменитого Русского на Афоне Свято-Пантеилеимонова монастыря в Греции, «нашего Афона», как его называли в XIX столетии.
Семья Сушкиных — отец Иван Денисович (22.1.1786 – 19.04.1868), его супруга Феодосия Петровна и четверо сыновей Василий (25.12.1812 – 6.01.1895), Иван ( 1818 г.р.), Михаил (17.10.1820-19.6.1889) и Петр ( 1825 г.р.) — жила в Петербурге по торговым делам в 1820-1850 гг. Иван Денисович Сушкин был главой крупного торгового дома, совершавшего в год сделок, в т.ч. и заграничных, на 10 млн рублей. Кроме того, Сушкиным с конца XVIII в. принадлежала фабрика по сортировке щетины, которая «шла только к Санкт-Петербургскому порту для продажи заграничным торговцам», принося десятки тысяч рублей прибыли. Сушкины владели также воскобельным заводом, где в год выбеливалось воска на 150 тыс. рублей, чистый мед шел в Москву, а выбеленный воск — к Санкт-Петербургскому порту.
Для Михаила Ивановича Сушкина Петербург стал городом, где прошла его юность, где он получил духовное воспитание — домашнее от очень набожной матери, и церковное — в приходе церкви св. вмч. Екатерины на Васильевском острове в Петербурге.
«Квартира наша была на Васильевском острове в первой Кадетской линии, между Малым и Средним проспектами, — воспоминал о. Макарий (Сушкин). — В доме купца Голубина, в приходе церкви св. Екатерины, возле самой церкви».
Михаил Сушкин далеко не сразу принял православные семейные традиции. В своих мемуарах он честно признается, как лень было, например, просыпаться рано утром, особенно в темные петербургские зимы. «Каждое воскресенье летом к всенощному бдению мы обязаны были ходить и становиться вместе с отцом, что нам очень не нравилось. Зимою будили нас к заутрени, к которой в особенности я всегда лениво вставал, за что нередко оставался без утреннего чаю. Ранней литургии мы постоянно всегда бывали, где, по обычаю, подавались две просфоры: одна за здравие, другая за упокой и с громадным поминанием».
Но постепенно и для него богослужения стали неотъемлемой частью жизни. Вот, например, какими запомнил о. Макарий (Сушкин) дни Великого поста и Пасхи:
«Во все воскресные дни Великого поста мы ходили ко всем службам церковным <…> Нередко на второй неделе нас заставляли говеть вместе с матушкою и уже тогда мы неопустительно ходили ко всем службам. Из школы к часам ходили в церковь Благовещения, а в среду и пяток в свою приходскую церковь св. Екатерины. <…> В нашем приходе был священник Иоанн Мелиоранский, наш же туляк, которого мы уважали и любили. <…> За исповедь мы давали священнику по рублю серебром. Я обыкновенно старался исповедоваться утром, и священник не тяготился этим. Приобщались мы все у ранней литургии, причем много ставили свеч к образам и, обычно полагалось бутылка вина и пять просфор в алтарь. Мы все становились на левый клирос, где не было певцов, а только одни причастники. Это делала матушка для того, чтобы лучше выслушивать службу. По приобщении святых Таин, если была поздняя литургия, матушка оставалась, а мы уходили, чтобы застать отца, когда он не ушел по делам.
<…> Страстная седмица проводилась так: если кто-нибудь говел из нас, то должен был являться к литургии прежде освященных, а кто не говел, то довольствовался утренней, затем ходили в школу. В среду отпускались с разными наставлениями от учителя, который говел всегда на страстной седмице. Остальные дни: четверток, пятницу и субботу мы ходили ко всем службам неопустительно. Всю неделю мы кушали без масла, а в пятницу — один раз после выноса плащаницы, также и в субботу после литургии. Хотя и бывала тогда ранняя литургия в субботу, но после нее не позволялось кушать. Пришедши от литургии и, напившись чаю, мы преспокойно отправлялись с отцом в противолежащую лавку для покупки десерта. Кто был взят в эту лавку для того составляло верх блаженства, ибо можно было хоть потихоньку полакомиться. Пришедши из лавки и, напившись чаю, все погружались в глубокий сон, кроме меня. Я убегал в церковь не Деяния читать, но посмотреть, немножко помолиться и расставить свечи, которые мне поручались. Сим поручением я очень интересовался. Окончивши поручение, я приходил домой. У нас уже начинали подыматься к заутрени.
Одевшись во все новенькое, мы уходили к утрени с отцом, где, пользуясь многолюдством, мы убегали в алтарь и там, в числе самых знаменитых прихожан, рисовались впереди. Мое удовольствие было похристосоваться прежде домашних с священнослужителями и видеть всю церемонию: как начиналась утреня, как совершалось каждение и т. п. Но окончании утрени, мы оставались на раннюю литургию. Все это оканчивалось к трем часам утра. Обычно в то время в Петербурге начиналась утреня к 12 часам, что возвещалось 101 выстрелом в Петропавловской крепости, чего мы ждали с нетерпением, также, как и окончания литургии. И что за неописанный восторг был за этой утренней! Едва ли он повторялся когда-нибудь в возрасте. Это было лет до 15. Пришедши от литургии, мы христосовались со всеми и разговлялись. К этому (времени) были приготовлены и артос, и крещенская св. вода, потом антидор и просфоры и затем разговлялись. При этом давалось наставление всегда есть, как можно меньше, но мы все в конце пасхи всегда делались нездоровы.
<…> Всю Пасху мы ходили по всем службам, которые отправлялись весьма скоро. А что нас занимало, то это — крестный ход кругом церкви каждый день с артосом после литургии, а в субботу — после утрени. Тогда уже ранней литургии не бывало, но поздняя, по случаю раздачи артоса, который мы считали за непременное получить, хотя нам присылали его (т. е. на дом)».
Запомнилось о. Макарию и как в семье отмечали праздник Святой Троицы: «В день св. Троицы, так как не бывает ранних литургий, то мы спали более обыкновенного, а между тем отец посылал покупать березок, рябины, которые покупались в большом количестве для квартиры нашей, и пуки цветов, которые мы все развязывали, отбирая самые лучшие для отца и матери. К этому кто-нибудь приносил (еще) из сада. Мы связывали как себе, так и прислуге и отдавали каждому, а сами расставляли березки по комнатам. <…> Церковь на Троицу тоже убиралась разными деревцами».
В 16-летнем возрасте, как вспоминал о. Макарий, его впервые стали посещать мысли о духовном поприще. Его тяготил образ жизни отца и старших братьев — жизнь делового человека, с конфликтами с приказчиками и поставщиками, денежными счетами. Он увлекся чтением духовных книг, так как, по его собственному выражению, его «мысль более и более распространялась к духовному, озарялась неземным желанием — быть последним рабом какой-нибудь обители». Но это юношеское желание, как признавал о. Макарий, «посеялось видно на камни» и созрело до осмысленного решения спустя 12 лет.
В 1848 году Михаил Иванович Сушкин уговорил родителей отпустить его в паломническую поездку на Афон, перевернувшую его жизнь. 27 ноября 1851 года он был пострижен в схиму. 22 февраля 1853 года о. Макария рукоположили во диакона, через два года с небольшим, 3 июня 1856 года – во иеромонаха. А 20 июля 1875 года о. Макарий был торжественно избран игyменом Пантелеимонова монастыря.
Отец Макарий стал первым русским настоятелем православной обители на Святой Горе и почитается РПЦ как выдающийся духовный подвижник. Приведем слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об о. Макарии:
«Архимандрит Макарий возвел жизнь управляемой им обители на небывалый доселе уровень. Строительство нового архитектурного ансамбля и бережная реставрация древнейших церковных зданий велись одновременно с созданием крупнейшего просветительско-издательского центра. Организация многочисленных подворий и проведение широкой благотворительной деятельности послужили тому, что монастырь святого Пантелеимона стал одним из центральных по своему духовному значению среди прочих афонских монастырей. Главным достижением отца Макария стало укрепление связей Русского Афонского Пантелеимонова монастыря с Русской Православной Церковью. Духовная и благотворительная деятельность монастыря привлекала множество паломников. Поступающие щедрые пожертвования шли на созидание новых храмов и обителей, тем самым делая русский вклад в жизнь Святой Горы все более весомым».
Отец Макарий умер 19 июня 1889 года. По давней афонской традиции, через три года со дня его кончины — 18 июня 1892 года, были извлечены из земли останки старца: кости оказались чистыми и светлыми, что на Афоне принимается как свидетельство благополучного состояния души почившего в загробном мире.
Схиархимандрит Макарий причислен к лику святых для местного почитания в Тульской митрополии и входит в Собор тульских святых как праведник Макарий (Сушкин).
Связь между отцом Макарием (Сушкиным) и Петербургом сохранялась и после отъезда его из России и принятия схимы инока на Афоне — через старшего брата Василия Ивановича Сушкина. Он единственный из братьев навсегда остался в Петербурге, жил здесь с женой и сыновьями Василем и Иваном, торговал на Санкт-Петербургской Бирже. Василий Иванович Сушкин неоднократно навещал о. Макария на Афоне, делал монастырю щедрые пожертвования. Отец Макарий упоминает подаренные братом Василием предметы церковной утвари и драгоценные украшения: «Сосуд прекрасный в обители первый», «подсвечники, парча, штофная материя, газы, книги» и т. п. предметы. Из Афона в Петербург Василий Иванович тоже возвращался с подарками от брата. С 1877 по 1880 гг. В.И. Сушкин был церковным старостой церкви св. вмч. Екатерины на Васильевском острове. Он участвовал в благоукрашении храма, жертвуя переданные отцом Макарием иконы, принадлежавшие кисти иконописцев монастыря на Афонской горе. Василий Иванович Сушкин умер в 1895 году и похоронен на Смоленском православном кладбище рядом со своими сыновьями.
Литература:
1. «Игумен русских афонцев – старец Макарий. Жизнеописание и творения схиархимандрита Макария (Сушкина)» // «Русский Афон ХIХ-ХХ веков»,
Том 9, ч. 2. — Издание Русского Свято-Пантелиемонова монастыря на Афоне. 2016.
2. Леонтьев К.Н. Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря Святого Пантелеимона на горе Афонской. М. 2009.
3. Парамонова И. Отец Макарий (Сушкин): от Тулы до Святого Афона /ТЕВ, 2010, № 13.
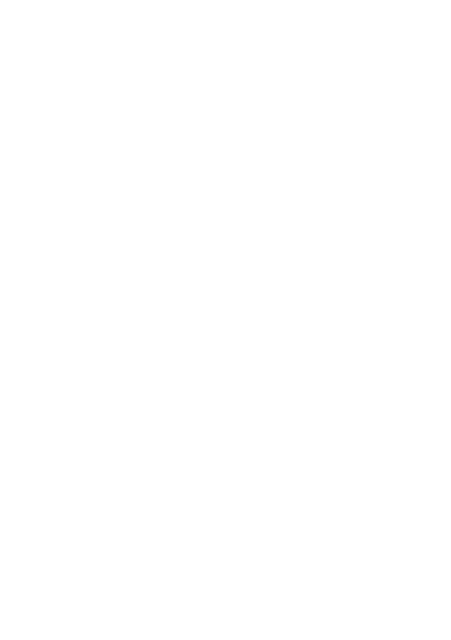
МАКАРИЙ
Архимандрит Константинопольской православной церкви, настоятель русского Пантелеймонова монастыря на Афоне.
- Родился17 октября 1820 г.
- Умер19 июня 1889 г.
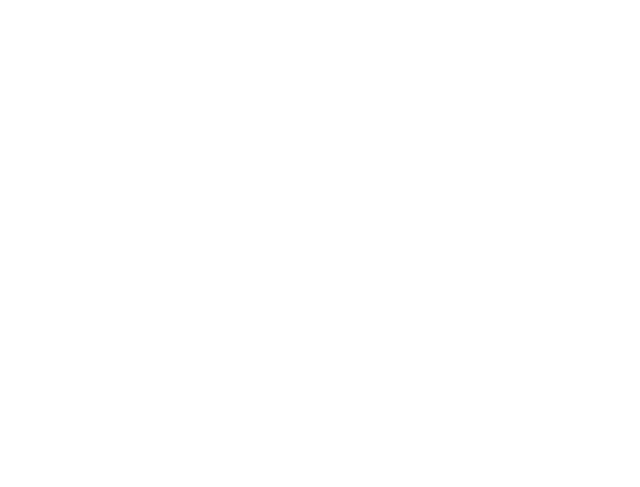
Схиархимандрит Макарий
с братом
Василием Ивановичем Сушкиным
с братом
Василием Ивановичем Сушкиным

Свято-
Пантелеимонов
монастырь.
Визит великого
князя
Алексея
Александровича,
16 июня 1867 г.
Отец Макарий
на фото 2-й справа
в первом ряду.
Пантелеимонов
монастырь.
Визит великого
князя
Алексея
Александровича,
16 июня 1867 г.
Отец Макарий
на фото 2-й справа
в первом ряду.
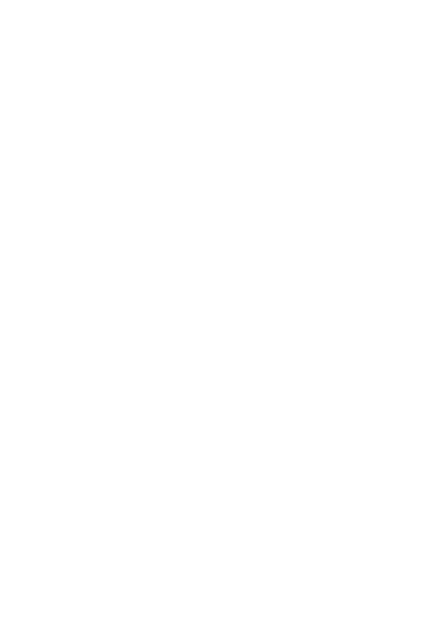
Василий Иванович Сушкин, родной брат отца Макария и староста Церкви Св. Великомученицы Екатерины.

Духовенство
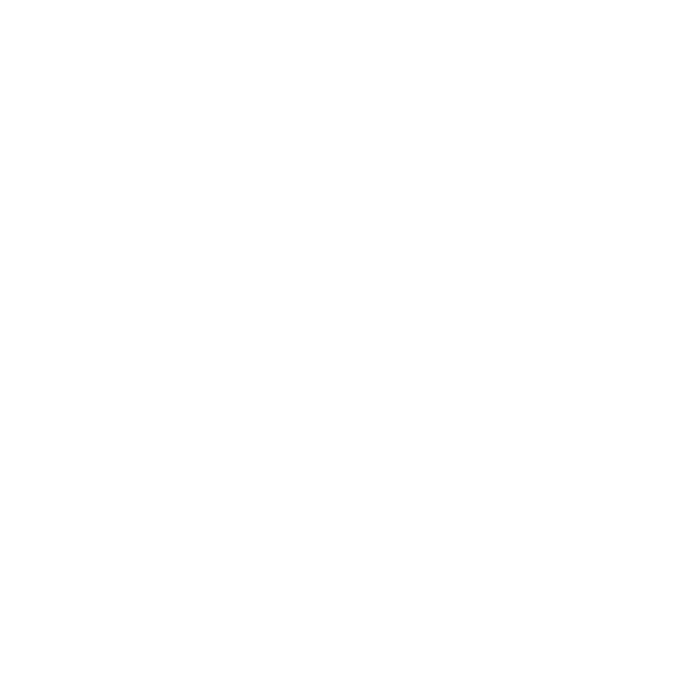
Иерей
Родион Грозовский
Родион Грозовский
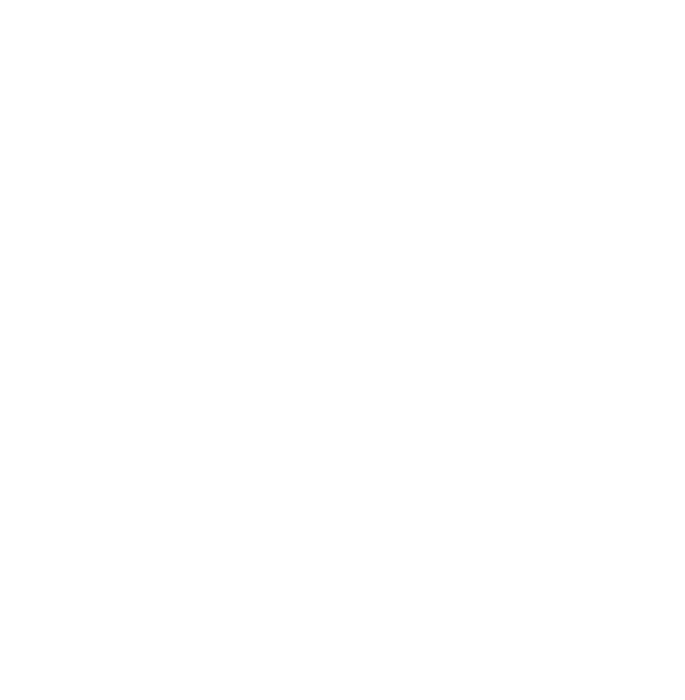
настоятель храма
Протоиерей
Иоанн Пашкевич
Протоиерей
Иоанн Пашкевич
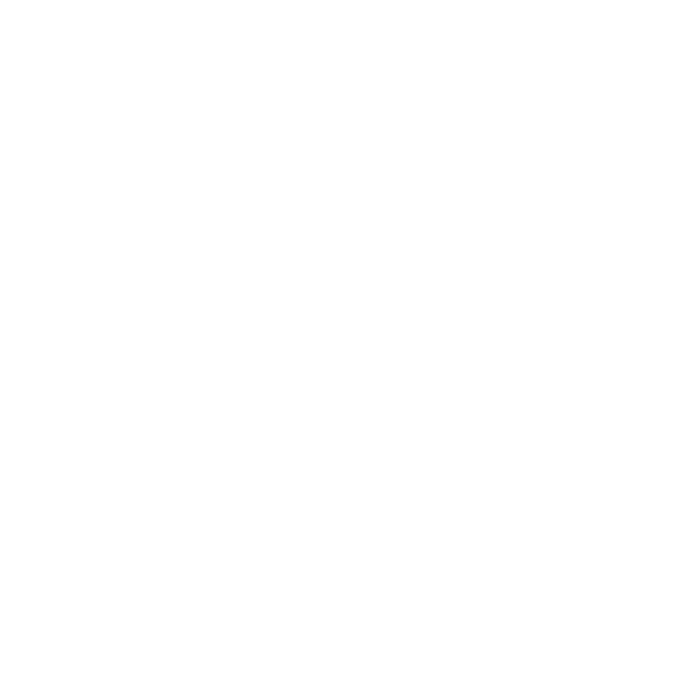
Иерей
Кирилл Никитин
Кирилл Никитин
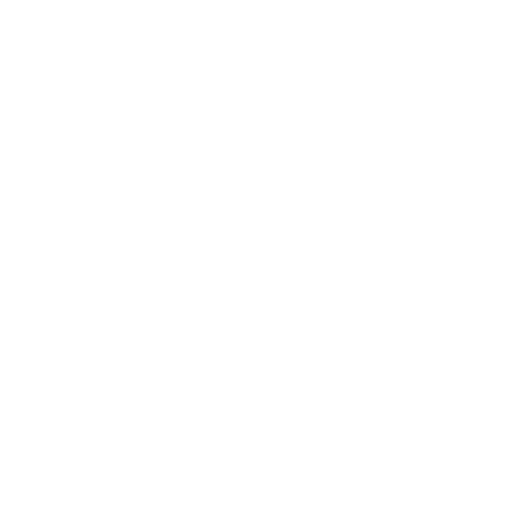
диакон
Дионисий Бабенко
Дионисий Бабенко
Святыни
Публикации
Фотоархив
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА 2022
Священные Таинства Церкви
ЖИЗНЬ ПРИХОДА
При церкви действуют катехизаторские курсы, православный молодежный клуб, книжная лавка, любительский хор, воскресная школа для детей, где проводятся не только занятия по изучению Библии и Православной культуры, но и проводятся занятия по хору и театральному мастерству. Также, работает молодежный клуб , где проводятся совместные чаепития и просмотры фильмов православной тематики (после воскресных и праздничных богослужений).
Паломническая поездка в г. Кронштадт
24 декабря 2017 г. состоялась паломническая поездка в г. Кронштадт, в которой приняли участие молодежные клубы Церкви св. вмч. Екатерины на В.О. и храма Смоленской иконы Божией Матери.
Паломники посетили квартиру-музей святого праведного Иоанна Кронштадтского (1829-1908), расположенную в доме на пересечении улиц Андреевской и Посадской, где более полувека прожил отец Иоанн.
О его жизни, подвигах и чудесах, совершенных по молитвам святого батюшки Иоанна, рассказала нам Елена Голубкова, экскурсовод музея. Настоятель Андреевского собора, отец Иоанн Кронштадтский, как великий праведник, самоотверженный пастырь и благотворитель, был горячо любим соотечественниками, собирая своей яркой и искренней проповедью тысячи людей со всей России.
Кронштадтский батюшка был канонизирован в лике праведных Русской Православной Церковью за границей в 1964 году, а в 1990 — был признан святым и на родной земле.
В ходе экскурсии выяснилось, что при жизни отца Иоанна к этому дому приходили тысячи богомольцев, присылались тысячи и тысячи писем и телеграмм.
После завершения экскурсии по музею-квартире участники клубов спели святому Иоанну Кронштадтскому тропарь и кондак, прочитали молитву и помазались маслом.
Далее паломники отправились в Никольский Морской собор г. Кронштадта, где также была проведена экскурсия по Собору, в ходе которой их познакомили с историей постройки и реставрации этого красивейшего храма.
Повествование началось с того, что Морской собор святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта) — был построен последним, самый крупный из морских соборов Российской империи, а сегодня это главный военно-морской храм России.
По завершении экскурсии паломники получили возможность подняться на колокольню Собора, где можно было насладиться прекрасным видом, открывшимся их взору, и даже ударить в колокол. Вернувшись обратно в храм, перед ковчегом с частицей мощей святителя Николая Чудотворца они спели тропарь и кондак, прочли молитву.
На этом программа поездки завершилась, и радостные, наполненные благодатными эмоциями, молодые люди вернулись обратно домой.
24 декабря 2017 г. состоялась паломническая поездка в г. Кронштадт, в которой приняли участие молодежные клубы Церкви св. вмч. Екатерины на В.О. и храма Смоленской иконы Божией Матери.
Паломники посетили квартиру-музей святого праведного Иоанна Кронштадтского (1829-1908), расположенную в доме на пересечении улиц Андреевской и Посадской, где более полувека прожил отец Иоанн.
О его жизни, подвигах и чудесах, совершенных по молитвам святого батюшки Иоанна, рассказала нам Елена Голубкова, экскурсовод музея. Настоятель Андреевского собора, отец Иоанн Кронштадтский, как великий праведник, самоотверженный пастырь и благотворитель, был горячо любим соотечественниками, собирая своей яркой и искренней проповедью тысячи людей со всей России.
Кронштадтский батюшка был канонизирован в лике праведных Русской Православной Церковью за границей в 1964 году, а в 1990 — был признан святым и на родной земле.
В ходе экскурсии выяснилось, что при жизни отца Иоанна к этому дому приходили тысячи богомольцев, присылались тысячи и тысячи писем и телеграмм.
После завершения экскурсии по музею-квартире участники клубов спели святому Иоанну Кронштадтскому тропарь и кондак, прочитали молитву и помазались маслом.
Далее паломники отправились в Никольский Морской собор г. Кронштадта, где также была проведена экскурсия по Собору, в ходе которой их познакомили с историей постройки и реставрации этого красивейшего храма.
Повествование началось с того, что Морской собор святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта) — был построен последним, самый крупный из морских соборов Российской империи, а сегодня это главный военно-морской храм России.
По завершении экскурсии паломники получили возможность подняться на колокольню Собора, где можно было насладиться прекрасным видом, открывшимся их взору, и даже ударить в колокол. Вернувшись обратно в храм, перед ковчегом с частицей мощей святителя Николая Чудотворца они спели тропарь и кондак, прочли молитву.
На этом программа поездки завершилась, и радостные, наполненные благодатными эмоциями, молодые люди вернулись обратно домой.
---------- Экскурсия для молодежи--------
11 февраля для участников православных молодежных клубов Василеостровского благочиния, состоялась интереснейшая экскурсия по нашему храму с подъемом на крышу и обозреванием окрестностей Васильевского острова и Невы. Пришедшие познакомились с историей храма, увидели отлитую в г. Воронеже линейку колоколов, временно размещенную на звоннице в церковном дворе.и Далее все проследовали в класс для занятий, смотрели фильмы про Ксению Блаженную и про Сретение.
Во время совместного чаепития всем удалось немного пообщаться, а также послушать о.Кирилла, который дал насыщенный комментарий и отвечал на вопросы.
11 февраля для участников православных молодежных клубов Василеостровского благочиния, состоялась интереснейшая экскурсия по нашему храму с подъемом на крышу и обозреванием окрестностей Васильевского острова и Невы. Пришедшие познакомились с историей храма, увидели отлитую в г. Воронеже линейку колоколов, временно размещенную на звоннице в церковном дворе.и Далее все проследовали в класс для занятий, смотрели фильмы про Ксению Блаженную и про Сретение.
Во время совместного чаепития всем удалось немного пообщаться, а также послушать о.Кирилла, который дал насыщенный комментарий и отвечал на вопросы.
---------- Экскурсии для ветеранов --------
По просьбе руководства социально-досуговых отделений Санкт-Петербурга, проводятся экскурсии в храме Святой Великомученицы Екатерины для пенсионеров, ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. В ходе экскурсий участники знакомятся с историей нашего храма, узнают, как он развивался и благоукрашался. Какие Святыни есть в нашем храме сегодня. Какие церкви были на этом месте и почему они не сохранились. Любуются линейкой храмовых колоколов размещенных на временной звоннице в церковном дворе. Ну и, конечно же, не обходится без рассказа о столь нелегкой судьбе знаменитой скульптуры Ангела с купола храма.
За чашкой чая в трапезной узнают какой неоценимый вклад внесли в историю храма семейство Сушкиных, что связывает наш храм и Святую гору Афон и многое-многое другое...
По просьбе руководства социально-досуговых отделений Санкт-Петербурга, проводятся экскурсии в храме Святой Великомученицы Екатерины для пенсионеров, ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. В ходе экскурсий участники знакомятся с историей нашего храма, узнают, как он развивался и благоукрашался. Какие Святыни есть в нашем храме сегодня. Какие церкви были на этом месте и почему они не сохранились. Любуются линейкой храмовых колоколов размещенных на временной звоннице в церковном дворе. Ну и, конечно же, не обходится без рассказа о столь нелегкой судьбе знаменитой скульптуры Ангела с купола храма.
За чашкой чая в трапезной узнают какой неоценимый вклад внесли в историю храма семейство Сушкиных, что связывает наш храм и Святую гору Афон и многое-многое другое...
Поездка в Свято-Троицкий храм Кулич и Пасха
4 марта участники нашего молодежного клуба св. Екатерины совместно с молодежью Смоленского храма мы поклонились иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" в Свято-Троицком храме "Кулич и Пасха" на пр.Обуховской обороны д.235.
Наши паломники помолились на молебне который совершили клирик храма св. Екатерины иерей Кирилл Никитин, клирик Троицкого храма диакон Евгений Зуб, и клирик Смоленского храма диакон Сергий Мороко.
После совместной молитвы была проведена экскурсия по храму. Также все дружно пообщались за круглым столом в Воскресной школе Троицкого храма. В ходе беседы были намечены совместные мероприятия, поездки и встречи между молодежными общинами Василеостровского и Невского благочиннических округов.
4 марта участники нашего молодежного клуба св. Екатерины совместно с молодежью Смоленского храма мы поклонились иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" в Свято-Троицком храме "Кулич и Пасха" на пр.Обуховской обороны д.235.
Наши паломники помолились на молебне который совершили клирик храма св. Екатерины иерей Кирилл Никитин, клирик Троицкого храма диакон Евгений Зуб, и клирик Смоленского храма диакон Сергий Мороко.
После совместной молитвы была проведена экскурсия по храму. Также все дружно пообщались за круглым столом в Воскресной школе Троицкого храма. В ходе беседы были намечены совместные мероприятия, поездки и встречи между молодежными общинами Василеостровского и Невского благочиннических округов.
Поездка в Дом ветеранов
10 марта, в Родительскую субботу, молодёжный клуб храма св.вмц. Екатерины совместно с клубом Ксеннии Блаженной посетили Дом ветеранов сцены имени М.Г. Савиной.
Основная деятельность этого учреждения - обеспечение проживания, создание условий для жизни и медицинская помощь лицам пожилого и старческого возраста.
В Домовой церкви во имя свт. Николая Чудотворца была совершена Божественная литургия клириками Смоленского храма и храма св.вмц. Екатерины.
Молитвенный дух, внутреннее убранство церкви, настенная роспись оставили тёплые и светлые ощущения и переживания в эту Великопостную Родительскую субботу.
10 марта, в Родительскую субботу, молодёжный клуб храма св.вмц. Екатерины совместно с клубом Ксеннии Блаженной посетили Дом ветеранов сцены имени М.Г. Савиной.
Основная деятельность этого учреждения - обеспечение проживания, создание условий для жизни и медицинская помощь лицам пожилого и старческого возраста.
В Домовой церкви во имя свт. Николая Чудотворца была совершена Божественная литургия клириками Смоленского храма и храма св.вмц. Екатерины.
Молитвенный дух, внутреннее убранство церкви, настенная роспись оставили тёплые и светлые ощущения и переживания в эту Великопостную Родительскую субботу.
Посещение храма детьми
11 апреля 2018 года, в СРЕДУ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ, воспитанники детского сада № 10 совместно с воспитателями посетили с экскурсией посетили наш храм. После литургии, настоятель храма рассказал ребятам о светлом празднике ПАСХИ. После службы все вместе отправились в трапезную на чаепитие.
Регулярно в течение учебного года священник нашего храма посещает детский сад с лекциями. На занятиях детки узнают что-то новое об окружающем их мире, о его Творце. По наглядным пособиям знакомятся с храмом и его убранством. А в этот день воспитанники смогли увидеть все, что видели ранее на рисунках.
11 апреля 2018 года, в СРЕДУ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ, воспитанники детского сада № 10 совместно с воспитателями посетили с экскурсией посетили наш храм. После литургии, настоятель храма рассказал ребятам о светлом празднике ПАСХИ. После службы все вместе отправились в трапезную на чаепитие.
Регулярно в течение учебного года священник нашего храма посещает детский сад с лекциями. На занятиях детки узнают что-то новое об окружающем их мире, о его Творце. По наглядным пособиям знакомятся с храмом и его убранством. А в этот день воспитанники смогли увидеть все, что видели ранее на рисунках.
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
28 апреля 2019 года, в нашей Воскресной школе состоялся Пасхальный праздник для детей. Программа мероприятия была достаточно насыщенная: дети исполняли песни и стихи, посвящённые Пасхе, затем принимали участие в весёлых розыгрышах и традиционных пасхальных играх: водили хоровод, выполняли различные задания, участвовали в традиционных народных играх и эстафетах. Ребята из старшей группы показали сценки по басням И.А.Крылова, а также Марасанова Алиса и Воробьева Арина подготовили два отрывка из прозы: рассказ Тэффи "Кишмиш" и рассказ И.Антоновой "Фамилия". Праздник получился тёплым и радостным, все дети получили призы и подарки. После праздника по благословению настоятеля О.Иоанна, все участники мероприятия угощались в трапезной традиционными пасхальными угощениями: крашеными яйцами, куличами и творожной пасхой. Все были объединены духом любви и чувствовали себя одной большой семьёй.
28 апреля 2019 года, в нашей Воскресной школе состоялся Пасхальный праздник для детей. Программа мероприятия была достаточно насыщенная: дети исполняли песни и стихи, посвящённые Пасхе, затем принимали участие в весёлых розыгрышах и традиционных пасхальных играх: водили хоровод, выполняли различные задания, участвовали в традиционных народных играх и эстафетах. Ребята из старшей группы показали сценки по басням И.А.Крылова, а также Марасанова Алиса и Воробьева Арина подготовили два отрывка из прозы: рассказ Тэффи "Кишмиш" и рассказ И.Антоновой "Фамилия". Праздник получился тёплым и радостным, все дети получили призы и подарки. После праздника по благословению настоятеля О.Иоанна, все участники мероприятия угощались в трапезной традиционными пасхальными угощениями: крашеными яйцами, куличами и творожной пасхой. Все были объединены духом любви и чувствовали себя одной большой семьёй.
ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО САДА
По сложившейся традиции, на Пасхальной неделе, 30 апреля 2019 года, во вторник СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ, воспитанники детского сада № 10 совместно с воспитателями посетили с экскурсией посетили наш храм. После литургии, священник нашего храма, регулярно посещающий данный детский сад с лекциями на православную тему, рассказал ребятам о светлом празднике ПАСХИ. После службы все вместе отправились в трапезную на чаепитие.
По сложившейся традиции, на Пасхальной неделе, 30 апреля 2019 года, во вторник СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ, воспитанники детского сада № 10 совместно с воспитателями посетили с экскурсией посетили наш храм. После литургии, священник нашего храма, регулярно посещающий данный детский сад с лекциями на православную тему, рассказал ребятам о светлом празднике ПАСХИ. После службы все вместе отправились в трапезную на чаепитие.
Санкт-Петербургский Государственный Интерьерный театр у нас в гостях
30 октября, в 15:00 состоялась акция памяти, посвященная русскому поэту Николаю Гумилеву. В доме № 17 по Тучкову переулку Николай Гумилёв и Анна Ахматова жили в 1912-1914 гг.
Николай Степанович Гумилёв, один из основателей важнейшего поэтического
направления Серебряного века — акмеизма, был человеком необыкновенной
храбрости: совершил несколько экспедиций по восточной и северо-восточной
Африке, добровольцем записался на фронт во время Первой мировой войны
(за храбрость был награжден двумя Георгиевскими крестами), а живя в
Советской России, не только не скрывал своих религиозных и политических
взглядов, но и, например, открыто крестился на храмы.
3 августа 1921 года Николай Гумилёв был арестован по подозрению в
участии в заговоре «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева» и
расстрелян в ночь с 25 на 26 августа 1921 года. Точное место захоронения
поэта до сих пор неизвестно.
Искусствовед Э. Ф. Голлербах писал о Н. С. Гумилёве: «Неисправимый
романтик, бродяга-авантюрист, ''конквистадор", неутомимый искатель
опасностей и сильных ощущений, — таков был он. Многие зачитываются в
детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Гюставом Эмаром, но почти никто не
осуществляет впоследствии, в своей ''взрослой" жизни, <...> опасные
затеи, далекие экспедиции. Он осуществил. Упрекали его в позерстве, в
чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть
и стихи».
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, о Николае
Гумилёве рассказал преподаватель литературы, к.ф.н. Владимир Шацев.
Стихи поэта прозвучали в исполнении артистов Интерьерного театра.
30 октября, в 15:00 состоялась акция памяти, посвященная русскому поэту Николаю Гумилеву. В доме № 17 по Тучкову переулку Николай Гумилёв и Анна Ахматова жили в 1912-1914 гг.
Николай Степанович Гумилёв, один из основателей важнейшего поэтического
направления Серебряного века — акмеизма, был человеком необыкновенной
храбрости: совершил несколько экспедиций по восточной и северо-восточной
Африке, добровольцем записался на фронт во время Первой мировой войны
(за храбрость был награжден двумя Георгиевскими крестами), а живя в
Советской России, не только не скрывал своих религиозных и политических
взглядов, но и, например, открыто крестился на храмы.
3 августа 1921 года Николай Гумилёв был арестован по подозрению в
участии в заговоре «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева» и
расстрелян в ночь с 25 на 26 августа 1921 года. Точное место захоронения
поэта до сих пор неизвестно.
Искусствовед Э. Ф. Голлербах писал о Н. С. Гумилёве: «Неисправимый
романтик, бродяга-авантюрист, ''конквистадор", неутомимый искатель
опасностей и сильных ощущений, — таков был он. Многие зачитываются в
детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Гюставом Эмаром, но почти никто не
осуществляет впоследствии, в своей ''взрослой" жизни, <...> опасные
затеи, далекие экспедиции. Он осуществил. Упрекали его в позерстве, в
чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть
и стихи».
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, о Николае
Гумилёве рассказал преподаватель литературы, к.ф.н. Владимир Шацев.
Стихи поэта прозвучали в исполнении артистов Интерьерного театра.
ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
При храме работает воскресная школа, где за чашкой чая проводятся беседы по изучению Библии и Православной культуры, что способствует развитию в детях нравственных качеств, которые помогают им адаптироваться в современном мире.
Занятия по изучению Библии и Православной культуры ведет иерей Родион (Грозовский).
Принимаются все желающие в возрасте с 7 до 15 лет.
Также проводятся занятия для детей дошкольного возраста в рамках подготовке к школе по методике РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ:
малочисленные группы (3-7 человек), спокойная доброжелательная обстановка, профессиональные, душевные и внимательные педагоги.
Занятия включают:
- артикуляционную гимнастику
- звуковые упражнения
- изучение букв
- обучение чтению
- обучение письму
В основу занятий положен принцип природосообразности, учитывающий возрастные особенности развития, благодаря чему полученные знания просто и основательно откладываются в голове у ребенка.
У малышей (4 года) много творчества и игры. У детей 5-6 лет используется игра созидательная, доставляющая им большую радость от освоения новых навыков.
Дополнительно проводятся занятия по разговорному английскому языку для детей 4 - 6 лет. Занятия интересные и соответствующие возрасту маленьких учеников, проходят в языковой среде, максимально приближенной к естественной - без учебников и пособий, построены по принципу: устная речь, диалог, игра.
Уроки проводятся в уютной и веселой атмосфере, в малочисленных группах.
Время работы:
Занятия по изучению Библии и православной культуры:
Суббота 16.-30.
занятия по подготовке к школе для детей 6ти лет:
Понедельник: 18-00
Суббота: 15-00
Занятия по подготовке к школе для детей 5ти лет:
Пятница: 17-15
Занятия по подготовке к школе для детей 4х лет:
Четверг: 16-40
Занятия по английскому языку:
Понедельник: 19-15
Пятница: 18-30
Запись по телефонам:
Наталья Львовна Тел. 8-921-556-07-24
Занятия по изучению Библии и Православной культуры ведет иерей Родион (Грозовский).
Принимаются все желающие в возрасте с 7 до 15 лет.
Также проводятся занятия для детей дошкольного возраста в рамках подготовке к школе по методике РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ:
малочисленные группы (3-7 человек), спокойная доброжелательная обстановка, профессиональные, душевные и внимательные педагоги.
Занятия включают:
- артикуляционную гимнастику
- звуковые упражнения
- изучение букв
- обучение чтению
- обучение письму
В основу занятий положен принцип природосообразности, учитывающий возрастные особенности развития, благодаря чему полученные знания просто и основательно откладываются в голове у ребенка.
У малышей (4 года) много творчества и игры. У детей 5-6 лет используется игра созидательная, доставляющая им большую радость от освоения новых навыков.
Дополнительно проводятся занятия по разговорному английскому языку для детей 4 - 6 лет. Занятия интересные и соответствующие возрасту маленьких учеников, проходят в языковой среде, максимально приближенной к естественной - без учебников и пособий, построены по принципу: устная речь, диалог, игра.
Уроки проводятся в уютной и веселой атмосфере, в малочисленных группах.
Время работы:
Занятия по изучению Библии и православной культуры:
Суббота 16.-30.
занятия по подготовке к школе для детей 6ти лет:
Понедельник: 18-00
Суббота: 15-00
Занятия по подготовке к школе для детей 5ти лет:
Пятница: 17-15
Занятия по подготовке к школе для детей 4х лет:
Четверг: 16-40
Занятия по английскому языку:
Понедельник: 19-15
Пятница: 18-30
Запись по телефонам:
Наталья Львовна Тел. 8-921-556-07-24
ПОСЕЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ
В субботу, 14 марта 2020 года, воспитанники воскресной школы нашего храма посетили театрализованное мероприятие для детей «Живая история», состоявшееся в Бирюзовом зале Александро-Невской Лавры.
Дети и взрослые с удовольствием посмотрели три части авторского мультфильма «Как Алена и Данила добру учились», созданного при содействии Фонда президентских грантов и БФ ОКО (Отечество, культура, образование). Вместе с главными героями ребята познакомились с нашими замечательными русскими святыми: Ефросинией Полоцкой, Ильей Муромцем и Андреем Рублевым. Истории из мультфильма отлично дополнила живая игра актеров Санкт-Петербургского православного драматического театра «Странник», которая нашла искренний отклик в юных душах.
В лаконичной и легкой для детского восприятия форме представления гармонично соединились история и современность, пронизанные главным смыслом и одновременно движущей силой всех добрых плодов нашей жизни: любви к Богу и ближнему. Получилось тепло и чудесно!
В довершение ко всему нас напоили горячим чаем со вкусными домашними кексами и булочками! Большое спасибо всем создателям и организаторам мероприятия, нашим ребятам очень понравилось!
В субботу, 14 марта 2020 года, воспитанники воскресной школы нашего храма посетили театрализованное мероприятие для детей «Живая история», состоявшееся в Бирюзовом зале Александро-Невской Лавры.
Дети и взрослые с удовольствием посмотрели три части авторского мультфильма «Как Алена и Данила добру учились», созданного при содействии Фонда президентских грантов и БФ ОКО (Отечество, культура, образование). Вместе с главными героями ребята познакомились с нашими замечательными русскими святыми: Ефросинией Полоцкой, Ильей Муромцем и Андреем Рублевым. Истории из мультфильма отлично дополнила живая игра актеров Санкт-Петербургского православного драматического театра «Странник», которая нашла искренний отклик в юных душах.
В лаконичной и легкой для детского восприятия форме представления гармонично соединились история и современность, пронизанные главным смыслом и одновременно движущей силой всех добрых плодов нашей жизни: любви к Богу и ближнему. Получилось тепло и чудесно!
В довершение ко всему нас напоили горячим чаем со вкусными домашними кексами и булочками! Большое спасибо всем создателям и организаторам мероприятия, нашим ребятам очень понравилось!
НАГРАДЫ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ФОТО С ЗАНЯТИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ
Вопрос Священнику
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 2025
контакты
В настоящее время, на период проведения работ, в церковном дворе действует временная часовня.
Часы работы: с 9:00 до 19:00
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кадетская линия, дом 27А, почтовый индекс: 199 053.
ПО ВОПРОСАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМА, ТАКЖЕ ДОГОВОРИТЬСЯ ВСТРЕЧЕ И ТРЕБАХ:
Настоятель храма, протоиерей Иоанн Пашкевич
Тел. 8 (812) 328-23-63
8 (921) 908-55-58
8 (911) 712-11-00
ioann-pashkevich@yandex.ru
Церковная лавка:
Тел.: 8 (812)328−25−72
Часы работы: с 9:00 до 19:00
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кадетская линия, дом 27А, почтовый индекс: 199 053.
ПО ВОПРОСАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМА, ТАКЖЕ ДОГОВОРИТЬСЯ ВСТРЕЧЕ И ТРЕБАХ:
Настоятель храма, протоиерей Иоанн Пашкевич
Тел. 8 (812) 328-23-63
8 (921) 908-55-58
8 (911) 712-11-00
ioann-pashkevich@yandex.ru
Церковная лавка:
Тел.: 8 (812)328−25−72
